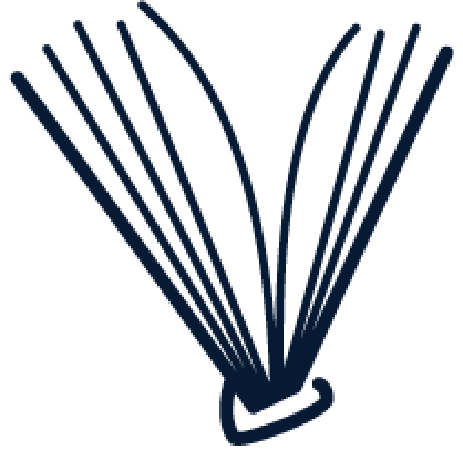Андрей Рубанов специализируется в первую очередь на реалистичной прозе, но в этот раз он написал книгу в жанре славянского фэнтези. Мы публикуем фрагмент книги «Финист — ясный сокол», которая в ближайшее время должна выйти в «Редакции Елены Шубиной»
В кромешной темноте, во дворе кузнецова хозяйства, я совсем не увидел растянутой сети, как ни приглядывался; птицеловы туго знали свое дело.
Но мои чувства были обострены, я понимал: сеть — вот она, над моей головой, готова, звенит от напряжения, как и я сам. Некоторое время я стоял, оглядываясь и не понимая, что делать. Все вокруг безмолвно замерло в грозовом предощущении, и я стал мечтать, что вот разразится буря, с молниями, с ветром, сшибающим с ног, — и не прилетит оборотень, побоится, отменит визит, и ничего не будет: ни охоты, ни драки, ни крови.
Но я бы прилетел.
К такой девке, как Марья, — прилетел, прибежал бы, приковылял, в любую, самую жуткую непогоду, хоть конец света наступи, хоть разразись рагнараек, или как там он называется у бессердечных свеев, пьющих рыбью юшку.
Услышал тихий свист: это Кирьяк меня звал. Они ждали за углом: четверо бесшумных.
На миг мне показалось, что у птицеловов горят глаза: нехорошим, зеленым светом, словно болотные огни мерцают ядовито.
— Пошли, — прошептал старый Митроха. — Осталось последнее дело сотворить.
Я уже понял какое.
Они двинули вперед, я — следом.
Зарница полыхнула над головой, осветив деревья и спины идущих впереди моих друзей.
Шли быстро, спешили. До полуночи оставалось совсем ничего.
И вот: треснул мир, и первый настоящий удар грома заставил меня задрожать и вжать голову в плечи.
Ветер прокатился по верхушкам деревьев: ледяной, тугой, яростный.
Мы шагали на тот же холм, где позавчера играли гульбище.
Конечно, нам был нужен холм; чем выше — тем лучше. Ветер налегал.
Мы поднялись на утоптанную, лысую вершину, и под моими ступнями захрустели угли давно потухших праздничных кострищ.
Здесь одноглазый птицелов вытащил из торбы деревянную колоду длиною в полтора локтя: это был редкий предмет — малый требный идол, истукан черного бога, вырезанный из полена, выскобленный ножом и тщательно завернутый в рядно.
Черты его лица я не разглядел во мраке — только глазницы, вырезанные глубоко и посаженные близко друг к другу: черный бог, как все знают, косоглаз.
Нижняя часть колоды была заострена: таких истуканов берут с собой князья и ярлы, отправляясь в походы; перед малыми идолами они вершат требы вдали от родины, в степях, в краях булгар, хазар, сарматов и тюрков.
Одноглазый размотал рядно и с размаха воткнул истукана нижним концом в землю, более или менее крепко; отошел в сторону, посмотрел, затем вернулся и утвердил еще раз, обратив круглую шалыгу истукана точно вверх.
Второй птицелов что-то прошептал первому, но что именно — я не услышал.
На мою вспотевшую голову, на голые руки упали первые твердые капли дождя.
Тьма была — хоть глаз выколи, но я видел все, а чего не видел — о том догадывался.
Настала очередь второму птицелову размотать свою торбу. Он извлек живую птицу. Ворона.
Полузадохшегося, спутанного тесьмой.
Это был крупный, в аршин, и, видимо, очень старый и сильный ворон, с клювом, способным пробить человеческий череп.
Ужас обуял меня, плечи намокли от падающей с неба холодной воды, и я открыл было рот, чтобы крикнуть, возразить, воспрепятствовать, и, может быть, я даже действительно крикнул что-то бранное — но кривая бешеная молния прочертила небосвод прямо над моей головой, и новый удар грома заглушил мой протестующий вопль.
В тех местах, где я был рожден, ворона считали хранителем общинной памяти, и многие семьи вели свой род от ворона. В том числе и моя мать.
Кирьяк, Митроха — стояли рядом и молчали.
На Митроху я не держал обиды. Вообще о нем не думал. Он был временный напарник. Еще совсем недавно я и знать его не знал. Но Кирьяк, друг ранних лет, считай — брат, мог бы возразить. И не просто мог бы, а был обязан. Его семья тоже вела род от ворона. Ему, рыжему богатырю, ничего не стоило двумя тычками опрокинуть обоих кривошеих сволочей и воспрепятствовать гадкому действу, освободить волшебную птицу — но увы; он ничего не сделал.
Я в первый раз видел, как подносят требу нижним богам.
Конечно, они жертвовали ворона, умную и сильную птицу, и притом дорогую.
В любом городе нашего мира найдется тот, кто купит у вас пойманного ворона, чтобы зарезать и пролить его кровь на язык хозяина нижнего мира.
В любой селитьбе найдется хоть один желающий умертвить чернокрылого князя птиц, дабы приблизить чью-то беду, смерть, болезнь или досаду.
— Нет! — крикнул я.
Одноглазый птицелов тут же обратил ко мне кривое лицо.
— Ты против?
— Да! Против!
— Тогда давай что-то другое.
Подошел второй птицелов, которого я все это время принимал за тень первого, — но теперь, в свете молний, в свисте ветра, в ударах дождевых струй этот второй показался мне много страшнее, злее и сильнее первого, одноглазого.
Самые страшные и опасные люди всегда держатся в тени, и вид их таков, что нельзя запомнить.
— Не отдашь это — отдавай другое! — велел он и сильно толкнул меня ладонью в плечо. — Испортишь требу — испортишь охоту! Отдавай что есть! Быстрее!
Пока я думал, как ответить, одноглазый выхватил нож и поднял ворона вверх ногами, спутанного, обреченного.
Птица уже чуяла близкий конец и билась, пытаясь освободиться.
— Быстрее! — крикнул одноглазый и оборотил взгляд на Кирьяка и Митроху. — Отдавайте самое дорогое!
Я не хотел участвовать в черной требе. Не хотел, чтобы хозяин нижнего мира обратил на меня свой взгляд и явил благосклонность.
Я бы предпочел, чтоб он вовсе не знал о моем существовании.
Но ватага решила иначе.
Что я мог отдать? Медную бляху с пояса? Половину серебряной деньги? Свой бубен? Свою жизнь? Свою удачу? Больше я ничего не имел.
Еще была любовь к девке Марье — но ради всех богов на свете, верхних, нижних, любых других, я бы не отдал ни Марью, ни свою любовь.
Дождь хлестал меня по лицу.
Одноглазый выхватил нож и одним сильным ударом отсек ворону голову. Конечно, не так сноровисто, как это делают волхвы, но достаточно быстро, чтобы птица не успела издать смертный стон.
Но все-таки мне показалось, что я его услышал.
И когда ворон умер — какая-то малая часть меня умерла тоже.
Кровь хлынула на деревянного истукана, полилась по грубо вырезанному лику.
Обезглавленная птица сотряслась несколько раз; если бы не была спутана — наверное, хлопнула бы крыльями.
Птицы, как и люди, умирают небыстро: видели, как бегает курица, лишенная головы?
Когти сжались и разжались.
Я посмотрел на Кирьяка: тот стоял недвижно, с бессмысленными глазами, и его правая рука судорожно сжимала оберег — петушиный клюв — на широкой груди.
Одноглазый погрузил два узловатых пальца в голую шею птицы, как будто в кувшин, и помазал свежей кровью свой лоб и щеки.
— Во славу и ради удачи! — хрипло провозгласил он и отдал обезглавленную птицу втором��.
— Во славу и ради удачи! — крикнул второй, которого я теперь ненавидел люто.
Смотрел, как они грубыми резкими движениями взрезают умерщвленного ворона, разламывают его грудину, проворно вырывают требуху.
Теперь, спустя сто лет, все вы знаете, что требуха и есть требная плоть. Мясо — людям, кишки — богам. Так был устроен тот древний, дикий мир, в котором я провел свою молодость; нравится вам это или нет. Не стану пугать вас подробностями. Скажу лишь, что оба птицелова скинули рубахи и порты, остались нагими — в свете молний было видно, что их руки и морды загорели дочерна, а тела сохранили зимнюю белизну — и обмазали себя, включая горла, животы, причиндалы и колени, дымящейся жертвенной кровью. А затем прыгали, под дождем и ветром, через деревянного истукана, как через костер, размахивая над головами вороньими кишками, словно победными флагами.
А потом мясо ворона сожрали, а кости и перья втоптали в мокрую траву.
И старый Митроха тоже жрал, двигая беззубым ртищем, и прыгал. И Кирьяк поучаствовал — но я на него не смотрел, не желал.
И по изгибам их костлявых спин я понимал: они очень хотят победить.
А я не хотел.
В победе не всегда есть правота, а в правоте не всегда есть победа.
И я знал, что черный бог не взял мою требу. Я не поднес ее от чистого сердца. Я не отдал самое дорогое, что у меня было. И в предстоящей охоте удача меня не ждала.
Птицеловы, наверное, хотели бы до конца соблюсти правила и спалить воронью требуху в костре, но дождь помешал.
Впрочем, костер не главное. И жертвенный камень не главное. И даже истукан не обязателен.
Главное — кровь.
Только она возбуждает интерес богов.
Только горячая, свежая, алая — угодна хозяевам других миров.
Так же и меж людей: все мы прохладны, все мы прощаем другу другу слова и поступки, пока не пролилась кровь. Зато уж если пролилась — поднимается вой, набухает гнев, и вот уже брат идет на брата, обнажив заточенное железо.
Обратно шли еще быстрее, почти бежали.
Ветер гнул деревья, кидал нам в лица холодную небесную воду.
Бывает, что в общей требе, когда вся селитьба, от мала до велика, стоит вокруг жертвенного камня, один человек или несколько не разделяют совместного порыва. Когда режут птицу, или козленка, или тельца, или человека — бывает, что не все согласны. Эти молчаливые, возражающие, или просто глупые, или, наоборот, слишком умные, или пришедшие ради общинной воли, из страха перед большинством, есть всегда.
Не надо думать, что в годы моей юности, сто лет назад, мы все поголовно дрожали от страха перед силой богов и толпами бегали на требище по поводу и без повода.
Мы были разные тогда.
Как и вы теперь.
Сам я, как и было сказано раньше, никогда особенно не надеялся на хозяев верхнего, а тем более нижнего, подземного мира. Бывали меж нас и такие, кто вообще не верил в богов и волхвов не слушал, а жил только своим личным разумением, а когда волхвы приходили — кидал в них камни. А были и третьи, которые сами себе придумывали богов и втихомолку подносили жертвы богу дегтя или богу срамного духа. Были меж нас пришлые люди с севера, подносившие жертву великанам, и пришлые с востока, подносившие жертву Тангру, богу кочевников, любителю кумыса, и пришлые с юга, подносившие жертву богу, имя которого невозможно было даже выговорить, любители грибов-дурогонов, верившие в дерево, растущее из нижнего мира в верхний мир, и в белку, которая бегает по стволу того дерева, перенося сплетни от нижних богов к верхним и обратно, — разные, говорю, были мы тогда, в том старом мире, от которого теперь мало осталось.
Поэтому ни Кирьяк, ни Митроха, ни тем более птицеловы не упрекнули меня за то, что я не участвовал в требе. Ничего не сказали.
По их лицам, мокрым от дождя и крови, было видно: они вполне удовлетворены.
Они точно знали, что черный бог забрал вороньи кишки, съел и доволен.
Так мы вернулись к дому кузнеца.
Здесь одноглазый птицелов, снова пошептавшись с напарником, посмотрел на нас и сказал:
— Обнажите ножи, подготовьте дубины. Встаньте по углам дома. Не разговаривайте. Не шевелитесь. Ждите. Все будет очень быстро. Промедлите — упустите. В такой темноте он не увидит сеть. Когда запутается — сразу бейте.
— А если не прилетит? — спросил Кирьяк. — В бурю птицы не летают.
— Он не птица, — ответил одноглазый. После чего оба они исчезли во мраке. — Боишься? — спросил меня Кирьяк. — Сам бойся, — ответил я.
Кирьяк засмеялся, но из-за дождя и рева ветра я не услышал его смеха — только почувствовал: он жаждал боя.
— Я его видел! — крикнул он, наклонившись к моему уху. — Я готов! А ты, если не хочешь, не лезь! Я справлюсь!
И показал мне нож.
Он был готов зарезать оборотня. Его обуял уже охотничий раж, и ярость, и желание мести. И я на миг поверил: в нужный миг мой ловкий, крепкий друг воткнет лезвие в чужую шею.
Но потом я вспомнил, как вчера тот самый нелюдь, сокол Финист, пронес моего друга по небу и сбросил мне на голову. Бездыханного, дрожащего, жалкого.
И я понял: Кирьяк уже ничего не соображает.
Его волей управляет высшая сущность, нажравшаяся вороньей требухи.
Со мной говорил уже не сам Кирьяк, но черный бог, овладевший его рассудком.
Страшно, тоскливо было понимать, что от меня ничего не зависит.
Я не участвовал в требе — но и не помешал. Не помешаю и теперь.
Охота началась, и я в ней был зритель. В этом беда всех, кто возражает.
Они спасают не мир, а самих себя.
Источник